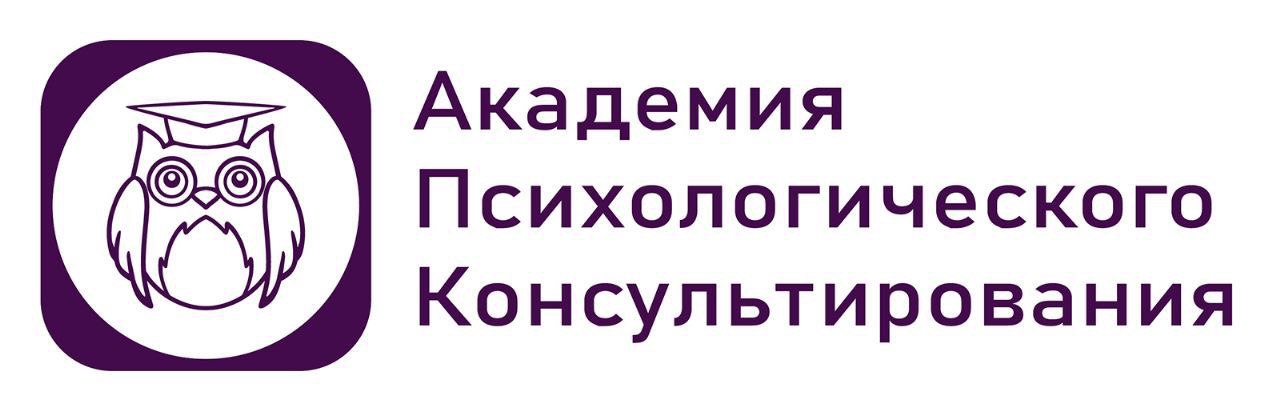РАЗМЫШЛЕНИЯ
ОБ УЖАСЕ
ОБ УЖАСЕ
статья : Ольги Сековой
Ужас можно назвать одним из первых чувств, с которым сталкивается младенец при появлении на свет. Абсолютная беспомощность и мощная атака перцептивных стимулов провоцирует ответную ярость и отчаяние. Появление матери предполагает долгожданную передышку и вызывает тревогу неизбежности отделения.
Вырастая, мы сохраняем отголоски этого первичного чувства, реагируя головокружением, приступами удушья, оглушением. Зигмунд Фрейд вводит понятие «das Unheimliche», в русском языке наиболее близкими к нему по значению представляются «жуткое» и «зловещее».
Он пишет, что этот термин относится к чему-то пугающему, к тревоге и ужасу. Но лишь на первый взгляд.
Постепенно развивая свою мысль, Фрейд приходит к пониманию, что Unheimliche представляет собой не только что-то скрытое и неведанное, и как следствие пугающее. Жуткое в его понимание также обретает черты известного, привычного и сокрытого.
«Таким образом, Heimlich – это слово, значение которого развивается амбивалентно, настолько, что в конце концов совпадает с противоположным unheimlich. Unheimlich – в некотором роде разновидность heimlich».
Вырастая, мы сохраняем отголоски этого первичного чувства, реагируя головокружением, приступами удушья, оглушением. Зигмунд Фрейд вводит понятие «das Unheimliche», в русском языке наиболее близкими к нему по значению представляются «жуткое» и «зловещее».
Он пишет, что этот термин относится к чему-то пугающему, к тревоге и ужасу. Но лишь на первый взгляд.
Постепенно развивая свою мысль, Фрейд приходит к пониманию, что Unheimliche представляет собой не только что-то скрытое и неведанное, и как следствие пугающее. Жуткое в его понимание также обретает черты известного, привычного и сокрытого.
«Таким образом, Heimlich – это слово, значение которого развивается амбивалентно, настолько, что в конце концов совпадает с противоположным unheimlich. Unheimlich – в некотором роде разновидность heimlich».
Фрейд ищет соотношения между противоположными значениями жуткого: тайного и известного.
Джон Стайнер, ссылаясь на работы Мелани Кляйн, говорит об одном из видов расщепления, как об ощущении раздробленности Эго и объекта в состоянии фрагментации.
Эта отчаянная ситуация, пишет он, возникает преимущественно при психотических и препсихотических состояниях. При этом для них характерны всеобъемлющая тревога и деперсонализация. Переполняющая тревога в таких состояниях воспринимается как ужас от противоречивого желания близости с объектом и страха быть преследуемым им. Частицы Эго и объекта интенсивно проецируются в терапевта в стремлении оставить внутри себя только выносимые и «понятные» фрагменты.
Эта отчаянная ситуация, пишет он, возникает преимущественно при психотических и препсихотических состояниях. При этом для них характерны всеобъемлющая тревога и деперсонализация. Переполняющая тревога в таких состояниях воспринимается как ужас от противоречивого желания близости с объектом и страха быть преследуемым им. Частицы Эго и объекта интенсивно проецируются в терапевта в стремлении оставить внутри себя только выносимые и «понятные» фрагменты.
Символическое выражение этим процессам мы видим на примере уже ставшего классикой фантастического фильма ужасов «Нечто» (реж. Джон Карпентен, 1982 год). Перед нами научно-исследовательская полярная станция с ее обитателями, давно потерявшими интерес к происходящему. Отсутствие женщин также не представляется случайным. Кажется, что ничего не связывает этих сильных и интересных мужчин с миром чувств и желаний. Им недоступны как объятия женщины, так и воспоминания о руках матери. В какой-то момент они сталкиваются с инопланетным существом, способным принимать облик жертвы, тем самым идеально сливаясь с ним. Перед героями явственно становится проблема сохранения своей идентичности и безопасности существования. Ужас поглощения и переход в небытие выступают на первый план. Идет борьба за право отдельности и уникальности.
Персекуторная тревога заставляет избегать близости с таким непонятным объектом, ведь из фильма мы так и не сможем узнать о цели этого существа. Было ли оно настроено враждебно или это попытка общения, как демонстрируется в романе Станиславе Лема «Солярис».
Финал показывает нам героя-одиночку, замерзающего в снегах. Он смог избежать слияния, при этом обрек себя на смерть. Раз за разом при просмотре я поразительным образом успокаивалась и расслаблялась. Фильм действовал убаюкивающе, возникала сонливость.
Несмотря на то, что это фантастический фильм, целью которого не является анализ психики героев, возможно мы можем сделать важный вывод. Каким бы ужасающим не представляется для нас объект, как бы мы ни старались уклониться от контакта, мы вынуждены признать свою зависимость от матери и свою беспомощность, чтобы в дальнейшем обрести идентичность, основанную на этом первичном слиянии.
Персекуторная тревога заставляет избегать близости с таким непонятным объектом, ведь из фильма мы так и не сможем узнать о цели этого существа. Было ли оно настроено враждебно или это попытка общения, как демонстрируется в романе Станиславе Лема «Солярис».
Финал показывает нам героя-одиночку, замерзающего в снегах. Он смог избежать слияния, при этом обрек себя на смерть. Раз за разом при просмотре я поразительным образом успокаивалась и расслаблялась. Фильм действовал убаюкивающе, возникала сонливость.
Несмотря на то, что это фантастический фильм, целью которого не является анализ психики героев, возможно мы можем сделать важный вывод. Каким бы ужасающим не представляется для нас объект, как бы мы ни старались уклониться от контакта, мы вынуждены признать свою зависимость от матери и свою беспомощность, чтобы в дальнейшем обрести идентичность, основанную на этом первичном слиянии.
Идеализация и тревога за свою жизнь
Жан-Мишель Кинодо, анализируя работы Фрейда, отмечает связь восприятия жуткого и страха кастрации. Объясняется, что жуткое связано с невозможностью отделить живое от неживого, разобраться с кем мы имеем дело. Эта спутанность присутствует с самого начала жизни. Если предположить, что младенческая ярость настолько сильна, что не позволяет ему распознать живую материнскую грудь, он остается в безжизненном мире. В момент нахождения успокоения рядом с матерью безжизненный мир может трансформироваться в первичную триангуляцию – мать, младенец и бездна. Возникает тревога и страх. Кинодо отмечает, что, согласно работе Фрейда, «тревога за свою жизнь – это не просто интеллектуальное впечатление; с психоаналитической точки зрения, мы имеем дело скорее с повторением ужасной детской тревоги, связанной со страхом кастрации».
На примере сказки Гофмана «Песочный человек» Фрейд демонстрирует расщепление имаго отца на доброго и кастрирующего. А мотив ослепления роднит сказку с мифом об Эдипе. Одновременно можно рассмотреть расщепление не только отцовской кастрирующей фигуры, а также и материнской на заботливую (holding) и мстительную. Это добавляет оттенок вынужденности, заставляющую ребенка уже на самых ранних этапах подстраиваться под потребности матери, лишь бы не сталкиваться с ужасом безобъектности.
Возможно, здесь будет уместно сослаться на статью Патрика Кейсмента «Ненависть и контейнирование», в которой он, опираясь на понятия Дональда Винникотта, анализирует последствия недостаточного контейнирования. Одним из вариантов развития он видит формирование ребенком «ложной Самости», «поскольку у него возникло чувство, что он один должен нести ответственность за контейнирование того, с чем остальные, по-видимому, справиться не в состоянии».
Это маска, которую развивает неуверенный в себе ребенок, будучи в состоянии скрыть свои самые истинные мысли и чувства.
«Такой ребенок может начать бояться, что родители не выживут, если не защитить их постоянно от того в нем самом, что, по его ощущениям, будет для них чересчур».
В сознании ребенка прочно поселяется уверенность не только в своей непереносимости, но и смертоносность по отношению к близким.
С самого начала жизни ребенок остро нуждается в способности матери выдерживать и перерабатывать его гнев, деструктивность и ярость. Раз за разом он нападает на объект, чтобы убедиться, что его выдерживают, и мать не будет уничтожена. При невозможности получить желаемое, он идет по пути идеализации и избегает травмирующую реальность.
Жан-Мишель Кинодо, анализируя работы Фрейда, отмечает связь восприятия жуткого и страха кастрации. Объясняется, что жуткое связано с невозможностью отделить живое от неживого, разобраться с кем мы имеем дело. Эта спутанность присутствует с самого начала жизни. Если предположить, что младенческая ярость настолько сильна, что не позволяет ему распознать живую материнскую грудь, он остается в безжизненном мире. В момент нахождения успокоения рядом с матерью безжизненный мир может трансформироваться в первичную триангуляцию – мать, младенец и бездна. Возникает тревога и страх. Кинодо отмечает, что, согласно работе Фрейда, «тревога за свою жизнь – это не просто интеллектуальное впечатление; с психоаналитической точки зрения, мы имеем дело скорее с повторением ужасной детской тревоги, связанной со страхом кастрации».
На примере сказки Гофмана «Песочный человек» Фрейд демонстрирует расщепление имаго отца на доброго и кастрирующего. А мотив ослепления роднит сказку с мифом об Эдипе. Одновременно можно рассмотреть расщепление не только отцовской кастрирующей фигуры, а также и материнской на заботливую (holding) и мстительную. Это добавляет оттенок вынужденности, заставляющую ребенка уже на самых ранних этапах подстраиваться под потребности матери, лишь бы не сталкиваться с ужасом безобъектности.
Возможно, здесь будет уместно сослаться на статью Патрика Кейсмента «Ненависть и контейнирование», в которой он, опираясь на понятия Дональда Винникотта, анализирует последствия недостаточного контейнирования. Одним из вариантов развития он видит формирование ребенком «ложной Самости», «поскольку у него возникло чувство, что он один должен нести ответственность за контейнирование того, с чем остальные, по-видимому, справиться не в состоянии».
Это маска, которую развивает неуверенный в себе ребенок, будучи в состоянии скрыть свои самые истинные мысли и чувства.
«Такой ребенок может начать бояться, что родители не выживут, если не защитить их постоянно от того в нем самом, что, по его ощущениям, будет для них чересчур».
В сознании ребенка прочно поселяется уверенность не только в своей непереносимости, но и смертоносность по отношению к близким.
С самого начала жизни ребенок остро нуждается в способности матери выдерживать и перерабатывать его гнев, деструктивность и ярость. Раз за разом он нападает на объект, чтобы убедиться, что его выдерживают, и мать не будет уничтожена. При невозможности получить желаемое, он идет по пути идеализации и избегает травмирующую реальность.
Сексуализация как защита от ужаса
Взаимосвязь сексуальности и восприятия жуткого отображается многочисленными примерами из мифологии и инфернальной теологии. В работе Джеймса Джонса Фрезера «Идентификация ужаса» описан образ богини мрака Гекаты. «Еще в Древней Греции ее считали покровительницей тьмы, ночных кошмаров, мести, разврата и колдовства. Богиня имеет устрашающий облик, на ее голове вместо волос развеваются змеи. По ночам Геката устраивает ужасную, дикую охоту, свора ее гончих псов бежит среди могил и призраков. Гекате молятся отвергнутые влюбленные и убийцы. Она внушает, как готовить отвары для приворотов и яды. Но Геката имеет и другие облики: днем она предстает перед людьми как суровый судья, а утром – как олицетворение духовности и в этом облике Геката помогает философам и ученым, «выводит души» людей из Царства мертвых к свету и любви. Таким образом, Геката связывает два мира: живых и мертвых. Она и мрак, и свет одновременно».
Этот пример особенно заинтересовал меня, как попытка совместить противоречивость жизни и смерти, сексуальности и убийства. Образ змей, обрамляющих женскую голову, отражает как страх кастрации, так и страх отравления женской сущностью. Как будто помещение пениса во влагалище неминуемо приводит к его токсичности.
При этом будто совсем рядом в психическом пространстве располагаются более примитивный ужас физического уничтожения. И наряду со страхом кастрации, как проявлением более позднего страха, возникает ужас поглощения и уничтожения в материнской матке. Не зря самые сильные и смелые воители обращались в камень, встречаясь взглядом с Медузой Горгоной, становясь замершей беременностью.
Взаимосвязь сексуальности и восприятия жуткого отображается многочисленными примерами из мифологии и инфернальной теологии. В работе Джеймса Джонса Фрезера «Идентификация ужаса» описан образ богини мрака Гекаты. «Еще в Древней Греции ее считали покровительницей тьмы, ночных кошмаров, мести, разврата и колдовства. Богиня имеет устрашающий облик, на ее голове вместо волос развеваются змеи. По ночам Геката устраивает ужасную, дикую охоту, свора ее гончих псов бежит среди могил и призраков. Гекате молятся отвергнутые влюбленные и убийцы. Она внушает, как готовить отвары для приворотов и яды. Но Геката имеет и другие облики: днем она предстает перед людьми как суровый судья, а утром – как олицетворение духовности и в этом облике Геката помогает философам и ученым, «выводит души» людей из Царства мертвых к свету и любви. Таким образом, Геката связывает два мира: живых и мертвых. Она и мрак, и свет одновременно».
Этот пример особенно заинтересовал меня, как попытка совместить противоречивость жизни и смерти, сексуальности и убийства. Образ змей, обрамляющих женскую голову, отражает как страх кастрации, так и страх отравления женской сущностью. Как будто помещение пениса во влагалище неминуемо приводит к его токсичности.
При этом будто совсем рядом в психическом пространстве располагаются более примитивный ужас физического уничтожения. И наряду со страхом кастрации, как проявлением более позднего страха, возникает ужас поглощения и уничтожения в материнской матке. Не зря самые сильные и смелые воители обращались в камень, встречаясь взглядом с Медузой Горгоной, становясь замершей беременностью.
Ужас как бессилие
Между ужасом и страхом пролегает огромная пропасть.
Философы, рассматривающие этот вопрос, такие как Сартр, Кьеркегор, Хайдеггер, основным критерием различия выделяют наличие или отсутствие субъектно-объектных отношений. Если я чего-то боюсь, то боюсь я чего-то конкретного, что могу назвать, произнести, «схватить» языком. Здесь явно прослеживается преимущество использования второй сигнальной системы, как будто вновь приближая нас к чему-то более зрелому.
Ужас же представляется практически мистическим, невыразимым и сталкивающим с бессилием и недоступностью как личного понимания, так и яростью от непонимания окружающих.
В своей работе «Неправильное понимание трагического» Бенджамин Килборн обращается к греческому понятию psuche, означающее дыхание, по средством которого можно судить о продолжающемся существовании жизни.
«Для древних греков жизнь была связана с дыханием. Последний вздох означал смерть. Для современных людей жизнь представлена работой сердца, так как мы знаем, где оно находится, и полагаем, что это нечто, что может быть затронуто, на что можно воздействовать и что можно починить, подобно мотору автомобиля или пришедшему в негодность насосу. В отличии от нас для древних греков жизнь была представлена чем-то, что мы чувствуем, но не можем пощупать: дыханием».
Это навело меня на мысль, что несмотря на все достижения медицины, мы не располагаем сведениями, раскроются ли легкие после рождения младенца. Мы не можем это предсказать, и момент перед первым криком является самым тревожным для матери. Сердце плода научились слушать очень давно, сначала прикладывая ухо к животу беременной женщины, затем с помощью акушерской трубки и стетоскопа. Этот приглушенный ритмичный звук определял есть ли надежда на дальнейшее развитие и рождение здорового ребенка.
А что же испытывает ребенок при невозможности совершить первый вздох? Что происходит с ним, помещенным в инкубатор, с трубкой в трахее? Какой ужас и бессилие мы испытываем, уже будучи взрослыми при столкновении с удушьем и приступом паники?
Остается во власти всемогущества…
Килборн пишет,«чем меньше было доверие к телу и к его чувствам как к чему-то ненадежному, тем большим был акцент на силе воли для их укрощения, который в свою очередь, приводил к усилению вины и к фантазии причинения вреда. А фантазии причинения вреда могли затем рационалистически объясняться как свобода утверждать свою волю без каких-либо социальных ограничений и стыда».
Между ужасом и страхом пролегает огромная пропасть.
Философы, рассматривающие этот вопрос, такие как Сартр, Кьеркегор, Хайдеггер, основным критерием различия выделяют наличие или отсутствие субъектно-объектных отношений. Если я чего-то боюсь, то боюсь я чего-то конкретного, что могу назвать, произнести, «схватить» языком. Здесь явно прослеживается преимущество использования второй сигнальной системы, как будто вновь приближая нас к чему-то более зрелому.
Ужас же представляется практически мистическим, невыразимым и сталкивающим с бессилием и недоступностью как личного понимания, так и яростью от непонимания окружающих.
В своей работе «Неправильное понимание трагического» Бенджамин Килборн обращается к греческому понятию psuche, означающее дыхание, по средством которого можно судить о продолжающемся существовании жизни.
«Для древних греков жизнь была связана с дыханием. Последний вздох означал смерть. Для современных людей жизнь представлена работой сердца, так как мы знаем, где оно находится, и полагаем, что это нечто, что может быть затронуто, на что можно воздействовать и что можно починить, подобно мотору автомобиля или пришедшему в негодность насосу. В отличии от нас для древних греков жизнь была представлена чем-то, что мы чувствуем, но не можем пощупать: дыханием».
Это навело меня на мысль, что несмотря на все достижения медицины, мы не располагаем сведениями, раскроются ли легкие после рождения младенца. Мы не можем это предсказать, и момент перед первым криком является самым тревожным для матери. Сердце плода научились слушать очень давно, сначала прикладывая ухо к животу беременной женщины, затем с помощью акушерской трубки и стетоскопа. Этот приглушенный ритмичный звук определял есть ли надежда на дальнейшее развитие и рождение здорового ребенка.
А что же испытывает ребенок при невозможности совершить первый вздох? Что происходит с ним, помещенным в инкубатор, с трубкой в трахее? Какой ужас и бессилие мы испытываем, уже будучи взрослыми при столкновении с удушьем и приступом паники?
Остается во власти всемогущества…
Килборн пишет,«чем меньше было доверие к телу и к его чувствам как к чему-то ненадежному, тем большим был акцент на силе воли для их укрощения, который в свою очередь, приводил к усилению вины и к фантазии причинения вреда. А фантазии причинения вреда могли затем рационалистически объясняться как свобода утверждать свою волю без каких-либо социальных ограничений и стыда».
Подводя итоги можно предположить, что проявления ужаса несут отпечаток сложности поиска объектного утешения в самом начале жизни. Возникает предположение, что ужас – это окружающий мир без материнских объятий, когда младенец оказывается в бездне небытия, ведь его психическая жизнь не существует вне психики матери.
Автор :
психоаналитический психотерапевт Ольга Секова
Автор :
психоаналитический психотерапевт Ольга Секова
Познакомьтесь с видео лекциями и программами Ольги Сековой в Академии!